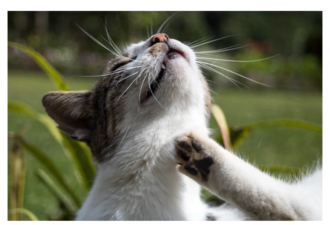Ушла злая и вьюжная зима. Пришла весна-красна. Жизнь продолжалась. Через неделю Надёжка нарвала за двором и у плетней молодой незлой крапивы, изрубила помельче, добавила в чугун горстку муки. Когда в обед выкатила чугун из печи, забелила щи молоком. Есть можно. Картошечки бы ещё помять, но её совсем не осталось. Даже на посадку. А через день по селу слух пошёл, что за Городищем целое поле неубранной с осени картошки, и те, кому уж совсем в рот нечего стало положить, потянулись на это поле.
Пошла и Надёжка, скорее из-за любопытства. Картошку и правда не успели выбрать, и теперь народ со всей округи кишел на поле: старухи, дети, старики копались в земле, выискивая разбрюзшее гнильё и собирая это месиво в вёдра. Потом блины пекли. И Акуля испекла на следующий день, когда вонючее месиво протёрли, процедили и собрали отстоявшийся крахмал. Блины получились серыми и ломкими, но есть можно. Прежде блины из картошки да крахмала называли драниками, а теперь – тошнотиками. Только тошнотиков Савины в эту весну более не пекли: Надёжка пошла на работу, а ночами начала копать огород. Сначала понемногу, продвигаясь с пригорка к низине, но чем меньше оставалось не вскопанной земли, тем хотелось быстрей докопать. Но за этим дело не стало, сажать нечем – вот беда! Сестра Вера, правда, дала ведро мелочи, но много ли это, а время-то уходит. У кого картошка была – все посадили. Вот уж и сады доцветают, а у Савиных огород пустует. Спасибо, Зина-почтальонка надоумила сходить в Болотово, где, как она рассказала, какая-то старуха то ли продаёт картошку, то ли в долг даёт.
– Сходи, сходи, – советовала Зина Надёжке, – два-три ведра принесёшь – всё дай сюда.
И в ближайший выходной, отпросившись у бригадира, Надёжка собралась. Взяла мешок покрепче, лапти надела поновей, потому что идти до Болотова десять километров, а кто говорит – все одиннадцать. Вышла ранним утром, когда в небе над порядком кружился коршун, высматривая у фокинской избы цыплят. До Городища добралась быстро, и, не заходя в посёлок, мимо питомника углубилась в лес, миновала его и очутилась на водораздельной высокой равнине, занятой полями: сразу и не сообразишь, куда идти. Болотово увидела неожиданно: притулилась деревушка в низине, словно от мира спряталось. Спросила в ней, кто картошкой богат – никто не знает. Наконец, одна старуха догадалась:
– Тебе, должно, кривоглазый Алексей из Выселок нужен… У него картошки пропасть – он осенью до самого снега её выбирал на брошенном поле. Весь окупырился. Иди к нему! – сказала старуха, предосудительно поглядывая на Надёжку, словно подозревала её в чём-то.
До Выселок ещё два километра. Нашла и деревеньку, и незнакомого Алексея, оказавшимся молодым, косматым мужиком, насторожённо глядевшим из-под пряди нечёсаных рыжих волос.
– С чужими дел не имею, – неопределенно и ворчливо сразу сказал он на крыльце, рассматривая Надёжку единственным глазом и заслоняя собою дверь. – Сама подумай: дам тебе семян, а где потом искать буду?
– Сказано: из Князева я, Павла Савина жена, – спокойно втолковывала она, хотя душа кипела от злости.
– Никакого Павла не знаю! – мужик высморкался, утёрся рукавом и собрался уйти в избу.
– Тогда, может, моего брата Дмитрия знал, лесника? У него где-то в ваших местах обход был!
– Это какой Дмитрий-то, из Городища, что ли?
– Во-во, он самый…
– Так бы и сказала, – оживился мужик. – Тебе сколько: ведро, два? Только сразу говорю: сейчас возьмёшь ведро – осенью два отдашь! Такое у меня правило.
Надёжку обрадовало, что мужик даёт картошку в долг, и поспешно согласилась:
– Как скажешь, хозяин, так и будет!
Набрала в подполе три ведра – подпол почти полон! – подумав, высыпала в мешок и четвёртое, а наверх вылезла, приподняла – вроде легко показалось. Вернулась и ещё два добавила, сказала сидевшему рядом косматику, считавшему вёдра:
– Вот теперь полный мешок, для ровного счёта.
– А донесёшь? – удивился мужик.
– Раз уж набрала – надо нести, – улыбнувшись, ответила Надёжка таким тоном, будто каждый день за десять-двенадцать километров мешки носила. – Только поднять помоги.
– Поднять-то недолго, чё потом-то делать будешь?
– Да уж как-нибудь…
Взвалила она мешок на плечи – нести можно. Выселками пробежала бойко, а за деревенькой захотелось перехватиться, да не стала суетиться под взглядами копавшейся в огороде старухи, смотревшей на Надёжку из-под ладони и приставлявшей ко лбу то одну руку, то другую. Только когда Выселки скрылись из виду, она позволила себе перехватиться, подбросив на спине мешок, и после этого показался он чуть ли не вдвое тяжелее. Хоть на землю скидывай. Подумала так, и страшно сделалось, потому что скинь сейчас мешок, отдохни, потом ни за что не поднимет.
Нет, надо нести, терпеть, не думать о тяжести, надо петь что-нибудь, забыться надо. Вспомнились две строчки из песни о несчастной девушке, похищенной разбойниками. Песня была протяжная, жалобная, вертевшаяся и вертевшаяся на языке: «Сосна горит жарко, Галя плачет жалко…» – и Надёжке показалось, что это она сама плачет, привязанная к горящей сосне. И слёзы подступили, и не хватало сил забыть о несчастной девушке, забыть о себе, чтобы тащить и тащить, уткнувшись взглядом в землю и не о чём не думая. Где-то над головой в молодой зелени пели птицы, радовавшиеся свету жизни, пели беззаботно, и ей самой захотелось стать птицей. Тогда не надо мучиться, ломать голову заботами – день прошёл и слава Богу… А до дома идти и идти. Онемела шея, и спина онемела, а руки сделались ватными. Высох пот, ручейком бежавший с подбородка, нестерпимо захотелось пить, и Надёжка мечтала хотя бы о глоточке воды – губы смочить! И что из того, что воды кругом много: и в лужах, и в колеях стоит, но поди дотянись до неё.
Дорога шла в пологий подъём, скоро должен показаться питомник и тогда просёлок будет ровней, будет легче. А за шоссейкой и вовсе хорошо – уклон начнётся. Только успевай ноги переставлять… Дойдя до питомника, опустила мешок на городьбу, вылезла из-под него, боясь вздохнуть всей грудью. Она придержала мешок дрожащими руками, а самой хотелось лечь, закрыв глаза, раскинуться на траве… Чем дольше стояла у городьбы, тем сильнее чувствовала усталость, словно усталость эта, спохватившись, надумала окончательно разделаться с ней, не пожелавшей поддаться. «Иди, иди, – подгоняла себя Надёжка. – Помощи ждать неоткуда!»
Она подлезла под мешок, когда бралась за него, он едва не выскользнул из рук… Удержала, понесла, через каждые сто шагов останавливаясь поправлять мешок. За шоссейкой останавливаться стала чаще, и, увидев на опушке поваленную осину, решила отдохнуть. Последний раз. Пока отдыхала, то подумала: «Что же во мне ума-то нет? Отсыпать бы полмешка, спрятать в кустах, а после забрать». Но эта мысль Надёжку не обрадовала: «А вдруг кто найдёт! Что тогда делать? Нет, надо всё нести… Может, в кустах кто-нибудь ждёт не дождётся, когда я мешок уполовиню!» И опять шажок за шажком всё ближе и ближе к дому. Вот уж и Князево вдали завиднелось, поле перед селом дугой прогибается. Пока по нему тащилась, вспомнилось, как в половодье здесь с брёвнами воевала. Тоже несладко было, чуть не померла, спасибо Елизавета выходила.
Почти у самых изб Надёжку догнал Фокин, узнав её, ехидно крикнул с ходка:
– Садись, толстопятая, подвезу!
У неё не осталось сил на слова. Она даже глазом не повела, словно это малое движение могло остановить, лишить последних сил… Она не помнила, как шла вдоль порядка, как подошла к дому и вместе с мешком рухнула у крыльца. Пришла в себя от всхлипываний стоявшего рядом человека. Надёжка смотрела на него и не могла понять, кто он, почему плачет.
– Папань, ты чего? – наконец спросила, узнав в человеке свёкра.
Григорий начал поднимать сноху, пытался посадить её на ступеньку крыльца, но та лишь мотала головой:
– Полежу, полежать хочется…
– Как хочешь… Мать, ты где? – донесся из сеней голос Григория. – Иди сюда – Надёха надорвалась!
Акуля прибежала вместе с внуками. Бориска заревел, а Сашка ухватил мать за руку и стал тянуть к крыльцу, прикрикнув на Григория:
– Дед, ты чего не помогаешь-та!
Все вместе усадили Надёжку на ступеньку, Сашка принёс матери воды и та пила жадно, плескала воду на лицо и снова прикладывалась к ковшу, едва удерживая его в дрожащих руках. Бориска мало-помалу первым успокоился и, подойдя к мешку, сказал обрадовано:
– Мнямня?!
Пока она приходила в себя, Григорий вёдрами перенёс картошку в сенцы, накрыл мешком, а Бориска не отходил от него. Он терпеливо дожидался, когда начнут варить картошку, накормят, но не дождался и заснул. Когда же проснулся, то в доме никого не нашёл, и, выйдя за двор, увидел мать и брата: мать лопатой копала лунки, а Сашка опускал в них картошку… Чуть дальше Бориска увидел бабушку, таскавшую за собой деревяшку с тремя зубьями и чертившую ими землю.
– Этот дьявольский маркер все руки отмотал! – пожаловалась Акуля снохе. – Пойду за дедом – пускай потаскает!
Григорий в это время сидел в сарае и плёл из конского волоса свильцы.
– Лодыря гоняешь?! – напустилась Акуля на мужа. – Иди на огород! Надёжка там убивается, а ему хоть что!
– Совсем не убьётся – она здоровенная… У меня дело поважней есть! Завтра стеречь пойду. Кнут готовлю.
– Рехнулся! – закатила Акуля глаза. – Сам же всю зиму говорил, что нутряная жила набухла! Брехун старый.
– Сейчас легче стало. Пасти можно, да и Васёк подрос. Но всё равно тяжело ему одному.
– «Мо-ожно», – скривилась Акуля. – В нынешний год не разбогатеешь, не думай. Людям самим есть нечего. Крапиве не дают вырасти.
– Что мне думать, когда и так всё ясно. Тебе-то, может, всё равно, а мне по селу стыдно пройтить, в глаза людям посмотреть. Я ещё помню, как старики на нашей крыше корячились, а ты, видно, забыла!
– Какой совестливый стал? Раньше бы таким нужно быть, когда разбойничал!
– Тебя тогда не спросил… Да и теперь поменьше слушался – две недели не потерял бы!

Григорий на огород так и не пошёл, а Акуля пока ругалась с мужем, пока зашла в избу напиться, пока ходила туда-сюда, то вернулась к Надёжке, когда уж та с картошкой расправилась. Да и много ли одним мешком посадишь? Оказалось, пол-огорода зря копала – семян не хватило и нигде их теперь не найдёшь. Но и то, что сделала, радовало. Теперь лишь бы погода не подвела. Убрав маркер во двор, прихватив ведро с лопатой, она пошла в избу, и вроде не устала, а сердце щемит.
Вечером, уложив детишек спать, вышла на крыльцо. Над селом тишина, погода ясная, воздух тёплый, ароматный. Солнце закатилось за берёзы, над порядком застыл мягкий предвечерний свет, и казалось, что ночь не посмеет наступить. Благодать-то какая! Всё радовало Надёжку в эти минуты: и ласточки в поднебесье, и суетившиеся у гнёзд грачи, а больше всего радовало, что огород пустовать не будет, что, Бог даст, всё наладится, только бы Павел побыстрей приходил, а с ним они уж заживут.
Эти волнующие мысли не пропали и утром, когда она собралась на работу. В доме показалось непривычно тихо: Григорий погнал общественное стадо, Акуля молчала, а недавняя новорождённая Нинушка спала, спали и ребята, а Надёжке почему-то захотелось, чтобы они проснулись, помахали ручонками, чтобы радость к радости шла. Но вместо ребят на пороге догнала свекровь, спросила, опустив глаза:
– Чего на обед-то готовить?
– Мамань, придумай чего-нибудь…
Нет, радостное состояние Акуле не передалось и не могло передаться. Когда проснулись ребята, она дала им по стакану молока; ни хлеба в доме, ни картошки. Чуть позже проснулась Нинушка. Акуля сменила у неё пеленки, накормила, а после повесила перед ней цветастую тряпицу – играй, милая, забавляйся. Потом взяла ведро и пошла за крапивой. За двор вышла, видит – внучата что-то делят, а Сашкин голосок так и звенит:
– Атарье, марье, зубре. Туре, юре, тормозе. Злато, брито, кумбарито – жук!
Пригляделась Акуля, а они из земли вчера посаженную картошку выкапывают! Перед Сашкой уже пяток картофелин лежит, а у Бориски только одна и наполовину изгрызенная… А Сашка картошку откопает и опять своё: «Атарье, марье…» Но так считает, шельмец, что считалочку заканчивает на себе. «Ах, мошенник! – подумала Акуля. – Ну, я тебе сейчас!»
– Ты что же это Бориску обманываешь?! – неожиданно крикнула она за Сашкиной спиной. Сашка начал оправдываться, а Бориска, показывая изгрызенную картофелину, заплакал и сквозь слёзы повторял и повторял:
– Мнямня, бабака, мнямня…
У Акули и у самой навернулись слёзы. Как тут ругаться будешь!
– Что же вы её сырую-то трескаете? – то ли укорила она ребят, то ли пожалела. – Пойдёмте, сварю, пока печь не остыла.
Акуля собрала в фартук картошку, но от крыльца вернулась:
– Чего тут варить? Надо ещё накопать, чтобы уж всем на обед хватило.
Картошки набрали руками, чтобы не порезать лопатой, на маленький чугунок. Вместе с внучатами Акуля помыла каждую картофелину, дважды воду из чугуна слила, а когда поставила в печь, то ребята, как часовые, встали у кухни.
– Что вы тут топчетесь? – шумнула Акуля. – Раньше всё равно не сварится, а хоть и поспеет, то до обеда ничего вам не обломится. Вот придёт дед, маманька с работы прибежит, тогда все вместе обедать сядем. А сейчас надо потерпеть, мои дорогие!
И ребята дружно вздохнули.
Tags: Проза Project: Moloko Author: Пронский Владимир
Спасибо за лайк