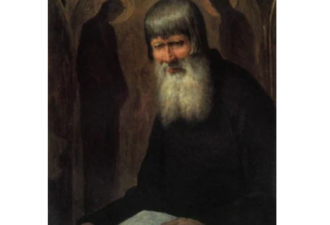Дни бежали за днями. Света уже изучила всех пожилых односельчан, побывала и в других домах, где проживали самые маленькие крохи. Патронаж проходил вовремя и в срок, и мало-помалу новенькая фельдшер становилась в деревеньке своей. Привычка бегать вечером, после работы, к речке вместе с Ленкой и ребятнёй приводила в восторг и детишек, и родителей.
Дед Саня и тот стал чаще сбривать свою сивую бородёнку, а проходя мимо, унимал шарканье калош и старался подтянуть пузцо. На удивлённый взгляд Стёпки сердито пояснил:
— Чо это я перед молодухой, как последний размазня ходить буду.
— Какой молодухой? — прикинулся непонятливым Стёпка.
— Уйди с глаз моих. Перед нашей молодухой. Попробуй упусти!
Стёпка только рассмеялся. На походы с докторшей пока не хватало времени. Хорошо, Ленка, забегая с письмами из города, развлекала Светланку, а потом о чём-то секретничали по вечерам и заливисто хохотали. Зато на танцах по субботам возле Светланки он был рядышком. И провожания домой случались каждый раз по самым длинным маршрутам…
Утро этого дня ничем необычным отмечено не было. Так же радостно, будто только что родился, ни свет ни заря, проорал петух. Так же степенно прошли мимо окошек коровы за поскотину, и так же важно проплыл на лошади местный ковбой, лениво пощёлкивая бичом.
Солнце привычным путём обогнуло утёс, прокатилось по крутым верхушкам сопок и, оттолкнувшись от них голенастыми лучами, выпрыгнуло в безбрежность июньского неба, будто промытого за ночь до непостижимой голубизны, отороченного по сопкам нежно-розоватой белой опушкой. Лето нынче начиналось не с томительного разбега, а вело себя так, будто давно уже обосновалось в этом уголке возле речки.
Вода в Макарихе уже к концу мая стала тёплой настолько, что самые смелые не только бродились с марлевым неводом для пескарей, но и, побросав сандалии, приседали до пояса, громко подбадривая самих себя воплями.
— Робя! Да уже тёплааая! Слышь чо! Прыгай давай!
Девчонки «грели воду», размахивай руками, поднимая брызги. И выкрикивая:
— Баба сеяла горох и сказала «Ох!», — приседая на оханьях в воду, поднимали такой визг, что Светка по-доброму завидовала ребятне и ждала вечера — сбегать с Ленкой на речку.
К середине дня старухи потянулись к магазину — захватить привезённый из райцентра хлеб, которого часто не хватало всем желающим. Очередь у магазина длинная, цветастая, разговорчивая. Проехавший мимо автобус с любопытством проводили глазами: в середине недели из города обычно мало кто приезжал, автобус вхолостую делал крюк и возвращался обратно за поскотину выскочить на «федералку».
А тут на остановке дверца автобуса выплюнула одного пассажира — в помятом с дороги костюме, с неказистым чемоданчиком. Пассажир был при шляпе, при очках, чем заметно отличался от местных, подпирающих палисадник мужиков.
— Интересно, к кому это гость сдалёка, — первой высказалась баба Катя, выйдя из магазина с покупками. — Тилигентный, сразу видать.
— Щас у его и спросим, — предложила баба Арина самый рядовой способ утолить любопытство. Поправила платок, вытерла калошу об калошу. Сочтя, что вполне прилична для такого интеллигентного гостя, двинулась навстречу.
Старичок, приподняв шляпу, поздоровался:
— Доброго всем дня, уважаемые. Не подскажете, есть в деревне Дорожковы?
— Нее… Никого не осталось. Давно жили, шшитай, пол-улицы было Дорожковых. Кто до войны потерялся, кто в войну, всех разметало, — охотно доложила Катерина.
— Как? Никого? — Приехавший растерянно поглядел за село, куда уже покатил автобус, волоча за собой шлейф пыли.
— Родня твоя, поди, — полюбопытствовала Арина.
— Да. Родные. Думал, может, тут кто остался из своих. Жена умерла, дети далёко. А корни тут… А гостиница тут есть?
— Нашёл чо спросить. Сроду не было.
Мужчина растерянно топтался, перекладывая чемодан из руки в руку.
— Но пойдем ко мне, — решилась вдруг Катерина. — До завтра остаться придётся. Автобус-то второй раз токо утром к нам зайдёт. Я своего старика схоронила три года назад, хоть поговорю с тобой вечером, всё не так тоскливо будет. — Не обращая внимания на шиканье Арины и попытки приостановить неуместное гостеприимство, продолжила: — Дом большой. Гостиниц у нас в деревне отродясь нету. Поди не обидишь?
— Ой! У голодной куме одно на уме! Гляди, не ссильничал бы! Кому мы нада! — съехидничала Арина. Мысль, что Катерина спокойно ведёт в дом совершенно чужого человека, злила. Мало ли что у него на уме. Может, какой грабитель. Рожа-то нехорошая! И сказать ей впрямую ни то ни сё, сколь не одёргивала, — не понимает!
— Тьфу ты! — отодвинув с пути Арину, Катерина решительно пошла вперед, показываю гостю дорогу к её калитке. Дома, не довязываясь с лишними расспросами, поставила чайник, показала, где рукомойник. Умывшись, гость достал из кармана пиджака расчёску, причесался перед гардеробом с большим до полу зеркалом. Выпрямился перед своим отражением, а потом, взглянув на портреты на стенах, сгорбился вдруг и стал их разглядывать. За этим занятием и застала его хозяйка.
— Но чо ж стоишь-то? Пойдем чайвать.
Не успели чинно расположится возле стола, как в дом зашла Арина.
— Меня старухи в разведку отправили. Боятся тебя одну на приезжего-то отставлять, — остановилась у порога, впрямую разглядывая приезжего.
— Не чуди, где ты их успела увидать, старух? Садись чай пить. Любопытство распирает, поди?
— Распираает. Но расскажи, мил человек, кто тебе Дорожковы-то были?
— Погоди ты, — остановила её Катерина и налила ещё одну кружку чаю. — Дай обопнуться с дороги человеку. Всё ж таки в возрасте.
— Родня наша. Родители наши дружны были с Гаврилом да с Анной. А вы не знаете, где кто-нибудь из их семьи? — приезжему, видимо, самому хотелось побыстрее что-то узнать.
— Всю семью в тридцать семом поразорили. Гаврилу забрали ночью. Увезли. А семью на другой день пришли выгонять с дому. А пост был и как раз забирать пришли в пасхальный день, — стала вспоминать хозяйка. — Мясо в печке томилось в чугунке. Анна схватила чугунку, руки обжигает, а она к телеге с мясом, куда всех детей кинули. Отобрали, горлохваты! Семь детей из избы выгнали, одну шубу на всех в телегу бросили. Ни подушки, ни одеяла.
— А куда их?
— Кто ж знает, — мрачно ответила Арина, — Заикаться-то боялись, не то, что расспрашивать. Вечером на угол бани котомочку повесят, бывало. Всё думали, что может, кто вернется, хошь набегом, да поесть возьмёт из дома.
— А Сазоновы рядом жили? Они что-то могут рассказать?
— Эээ, — соседки переглянулись. — И Сазоновых знали? И тех тоже сгнобили, — подняла к божнице голову Катерина и перекрестилась.
— Только старших? — уточнил старик.
— Нет…, — Катерина мотнула головой, — Забрали деда Никифора, сыновей его Алексея и Петра, увезли. А молодухи, с бабкой Никифорихой, с Николаем, да детишками в ночь ударились в бега. Понимали, што и им покою не будет. «Враги народа»!
— Даа, — поддакнула Арина, у которой уже и слёзы блестели в глазах. — Рассказывал отец-то мой, как на плоты их бегом-бегом посадили, курочек несколько в корзинку. А курочка яичко снесла, пока грузились. Вот маленькая девочка держит яйцо в руке, а оно возьми да упади в воду. Заплакала так горько девчоночка; плоты мужики столкнули и уплыли они.
— А потом, потом куда они? — не унимался и выпытывал гость.
— Потом уж, после войны, писала старшая дочка их в деревню. Мол, остановились на станции, потом пешком перешли через хребет и стали жить в Иргени. А Николай-то, средний сын Никифора, работал на заработках и помер на станции этой от воспаления, — вытаскивала из запасников памяти сведения хозяйка дома. А Арина поддакивала:
— Нооо, слыхала я. Молодуха-то за ним на санях зимой на станцию через этот хребет ходила. Потом волочила его мёртвого домой туда хоронить. Попростыла, да потом так долго хворала. Лежала в больнице с малярией. А дети в землянке там одне.
Старик всё ниже и ниже опускал взгляд, Катерина спохватилась:
— Но не к ночи спомнили… Царство всем небесное… Человек приехал на родную землю, а мы всё о грустном. — Метнулась к шкафу, потом в сенки, принесла на столик варенье, стряпню.
— Ишь, какая хлебосольная хозяюшка, — въедливо ковырнула Арина, — У вас, можа, всё уж сладилось, а меня тут принесло.
— Ой, не борони, чо попадя… «Сладилось», — шикнула Катерина. — Я ведь, чума такая, даже не спросила, как зовут!
— Он чо! Как зовут-то, гость нежданный? — схватилась и Арина.
— Владимир Петрович, — чуть привстал приезжий.
— Вот, Петрович, и думай. Родина твоя, говоришь, а тут и невеста без места, картина-Катерина! Есть у нас ишо одна вдова. Но страшная. На её даже мухи не садятца. А Катерина у нас, шшитай, ишо кровь с молоком.
— Хто страшная? Я страшная? — уже от двери начала бабка Людмилка, с ещё не до конца сошедшими со щек отёками от укусов.
— Ох, ты и хитрушша, — в голос рассмеялась Арина. — То не дай Бог, какая хворая, а тут про сватовство услыхала, уж прилетела. Седни-то кто накусал?
— Но заюлила. Ты про кого это — «Мухи не садятся»? — сурово допытывалась Людмилка, разобижено тряся губами.
— Шуткую я, Катерине цену набиваю! — Арина ловко поставила под Людмилку старенький табурет. Та грузно села на него, оправила складки юбки, и стала внимательно глядеть на гостя, слеповато подавшись вперёд. Засмотревшись, уронила увесистую клюку прямо на пол. Петрович, согнувшись, припал на коленки, подхватил клюку из-под столика, поправил ножичком отставший кусочек бересты на рукояти, подал хозяйке. Снял пиджак, повесив его на спинку стула, остался в рубашке, из-под которой просвечивала тельняшка.
— Петрович, не лазал бы ты там по полу с этой клюкой. Што уж мы, нелюди какие, сроду раз мужик у нас тут затесался, а мы тебя на ремонтные работы.
— Ну да… Надо бы для красоты сразу на божницу, — съехидничала Арина.
— А чего с мужиками-то у вас худовато? — проявил заботу приезжий.
— Дак тебе ж толмачили, что. Какие в тридцать семом задержались, на фронт забрали. А с фронта, сам знаешь, поди, по сколь народа пришло, — грустно доложила Арина.
— Это да. Сам-то воевал? — Катерина подвинула старику свежий чай.
— Воевал, конечно, воевал.
— А войска какие? Моряк, поди, раз тельняшку по сей день носишь? У меня меньшой мнук в моряках щас, — не оборачиваясь, показала заскорузлой уработанной пятернёй в стекло буфета, где красовалась карточка морячка в лихо заломленной бескозырке с надписью «Тихоокеанский флот».
— Нет… Я сухопутный, — старик сурово застегнул рубашку на все пуговицы.
— Награды, поди, имеешь? — любопытствовала Катерина, важничая перед соседками гостем.
— Да не в наградах дело. Кто фронт прошел, он, вроде как, очистился от всего, — старик встал. Видно было, что тяготил его этот разговор, и не по себе ему от расспросов. Покрутив в руке стакан, прислушался к себе и, потирая левую сторону груди, снова прошелся перед фотографиями на стенах. Бабки примолкли, но, не отрывая глаз, следили за приезжим.

— А где мне можно прилечь? Худо как-то, сердце ноет.
Катерина сорвалась с табуретки.
— Пойдём. Пойдем. Покажу тебе! От ведь дурочки старые, уморили человека с дороги. Щас постелю! — метнулась в дальнюю комнату. Соседки, неодобрительно покачав головами, вышли из избы. Но в сенях, по-хулигански переглянувшись, вдруг затянули:
«Сронила колечко, со правой руки,
Забилось сердечко о милом дружке…»
— Чо вот запридуривались, — зашикала на них выскочившая вслед Катерина. — Человек спать запросился, видите же — худо ему! А вы тут заголосили!
Арина с Людмилкой, помогая друг дружке, сковыляли с крылечка, и упрямо продолжили:
«Ушёл они далёко,
Ушел по весне,
не знаю в которой искать стороне»
Катерина, прикрыв калитку, остановилась и задумалась. Воспоминания, волей-неволей поднятые за столом, царапали изнутри ржавой колючкой. И хоть среди перечисленных гостем фамилий не прозвучала её родная, она помнила и о своём, незабываемом горюшке. Отец её тоже сгинул в тридцать седьмом, — и ни слуху, ни духу вот уж полвека. Был Василий, да весь вышел. Куда вышел — никто не знает…
Скрипнувшая сзади половица вытолкнула из воспоминаний. Оглянувшись, увидела Петровича. С посеревшим лицом он стоял у двери, налаживаясь выйти. Встрепенулась:
— Ты чо поднялся-то? Отлежись.
— Хотел спросить, — речка далеко от дома?
— А чо речка-то? Помыться, что ли? Дак у меня баня со вчера ишо тёплая. Сполоснись с дороги. Да и речка недалеко, вон за огородами.
— Хорошо-то как: баня, речка за огородами. Мечтал я так пожить, — оглянулся вокруг Петрович.
— А и живи, в деревне домов-то дивно пустых. Кто помочней, на машзаводе, да на камвольном, тут у нас неважнецко с работой. Мужицки руки в деревне завсегда лишними не будут. Дома побросали, никому они не надо. А желающих коровам хвосты крутить мало остаётца.
— Непривычный я теперь к деревне. Одному, поди, не справиться будет, — засомневался приезжий.
— Помогу где, по бабской линии, — брякнула Катерина, потом, испугавшись, как ей показалось, заинтересованного взгляда, поняла, что высказалась как-то не так, хохотнула неловко:
— Да неее. Постираться помочь, или с огородом. Спечь может что-то. Хотя, я последнее время больше по мужицкой — и сено косить самой, и дрова рубить. Внука с работы не дождаться.
— Во, дрова рубить само по мне. Да и сено — руки, поди, вспомнят, — взглянув на руки хозяйки, приметил и набрякшие вены, и кривые, как скрученные пальцы:
— У тебя-то, землячка, руки и, правда, мало отдыха знали, — неожиданно для самого себя погладил руку Катерины. Та запоздало спрятала руки за спину, потом почти сердито махнула в сторону бани:
— Иди уже, сполоснись да спать. Я внука попрошу, штоб потише брякал посудой. Поздно прибежит.
***
Вечер упал на деревню с неизвестно откуда приблудившейся тучей — мягко и стремительно. Туча долго гнездилась на заречных распадках, переместилась к восточному краю деревни и основательно уселась на ночлег у самого села.
Даже коровы поторопились домой с пастбища, хоть и манила к себе только вылезшая травёнка. Громыхая натруженными копытами по дороге, шуровали по домам, распуская длинную слюну до земли — верный признак приближающегося дождя. К ночи он брызнул на деревню, — третий уж за весну, и опять ко времени. Черемухи и тополя подставляли шустрым струям зеленые ладошки, нешумно аплодируя дождю, стёкла в окнах светло и радостно поблёскивали от вспышек молний.
Катерина, присев на кровать, сняла с головы платок, расчесала тугой узел, распустив волосы по спине. Натянутая за день немудрёной причёской кожа побаливала, и она с удовольствием растерла голову своей пятерней, похожей на громоздкую пятипалую расчёску с кривыми шишковатыми зубьями. Пробор распался, и вспомнилась старая ветеринарша из колхоза: «Волосы, говоришь, не держутся, на пробор распадаются? Хвораешь чо-то. Верная примета. У баранухи если шерсть распадается, значит, хворь какая-то её нутрит».
Вот и у Катерины нутрило что-то этим вечером. И ладу дать не могла, почему. То ли расспросы колыхнули старое. То ли какая-то ускользающая мысль, и беспокоила уже не сама мысль, а то, что не может её поймать и высказать. Уснула вроде. Гимн по радио заиграли, — встала, собралась было идти к умывальнику, а радио стихло. Полночь, оказывается! Проворочалась до трех ночи и потом только забылась. Гроза после полуночи стихла.
Утром, помня о госте, соскочила с постели завести блины — напоить чаем перед дорогой. Вчерашняя туча с дождём ушла, промыв деревне окна, в которые уже просилось солнышко
Внук сутки не приезжал из мастерских, которые были в соседнем селе. Заглянула в комнату — гость лежал в кровати. Приоткрыв глаза, тихо сказал, едва разлепляя сероватые губы:
— Худо было, побоялся будить. Может, таблетки какие у вас есть?
Потому, в середине восьмого часа баба Катя уже стремительно пролетела по тропинке к квартирке фельдшера. Заполошно постучав в окошко, покричала:
— Света, доча! Пошли скорей ко мне. — потом только, наклонившись, подтянула совсем упавшие на калоши чулки, мельком подумав, что ещё чуть-чуть и потеряла бы их по дороге.
— Что случилось, баб Катя? — Света уже была на ногах, утиралась полотенчиком, и торопливо раскручивала бигуди с двух хвостиков.
— Да гость мой затяжелел. На сердце жалуется. Как его на автобус такого провожать? Отправь, да потом думай, доехал живой или нет. Может, глянешь его, до автобуса то ишо два часа, таблетку может какую ему?
— Хорошо, давайте, посмотрим вашего гостя. Пойдёмте.
Торопливо перейдя дорогу, обе скрылись за забором бабы Кати.
— Где у вас руки помыть? — Света тут же увидела рукомойник у двери, и шустро побрякала носиком умывальника.
Подойдя к лежащему на кровати мужчине, измерила ему давление, послушала сердечным ритм и тихо о чём-то расспросила, пока баба Катя тревожно искала в своей коробке из-под чая таблетки уже для себя.
Поколдовав над гостем, оценив нездорово-синеватый цвет губ, Света подошла к примолкнувшей у печи Катерине, и тихо сказала:
— Аритмия. Симптомы не очень хорошие. Ему бы дня три отлежаться, по такой жаре не ездить. Я понимаю, что он чужой, но, может, разрешите ему полежать пару деньков?
— Да рази я бревно какое, хворого на улицу отправить. Канешно, какой разговор, пущщай отлёживается.
— Вот таблеточки: давайте их два раз в день, — положила она на стол упаковочку лекарств и выскочила в улицу, оставив озадаченную хозяйку в расстроенных мыслях.
А Света, выскочив в улицу, торопливо двинулась в сторону медпункта и буквально нос к носу столкнулась со Степаном.
— Степан? Что-то случилось? Опять солнечный удар?
— Нее, не солнечный, — уныло пробасил Стёпка.
— А какой? — тревожится она, поглядывая на Степана.
— А молодых шоферов, если сердце болит, сымают с работы? Я ведь машину люблю! — озабоченно поделился с нею своим горем Степан.
— Да о чем ты говоришь, Степан? Какое у тебя может быть сердце? Ты ж только в армии отслужил? Может, продуло и прокалывает, так это невралгия. Никак не сердце.
— Нее…, болит и болит. Ноет ночами.
— Давно это у вас?
— Да как тебя увидел, так и заныло.
— Стёп, ты меня не пугай, — облегчённо рассмеялась Света. — Я ведь ещё всего боюсь. Боюсь — вдруг вечером вызовут к больному, а я не смогу помочь? Мне это даже снится. А как ночью бежать в другой край деревни? Я его даже не вижу — вооон как далеко…
— Делов-то. Я ж буду провожать, — обрадовался Стёпка.
— Ты ж после работы? Тебе отдыхать нужно, — Света испытующе глянула на Стёпку.
— Как я буду отдыхать, если тебя одну в ночь понесёт? Неее, я провожать буду, — и достал из-за пазухи газетный сверток, а оттуда крошечные первые цветочки.
— Ой, в газету-то зачем?
— Чтоб Колька не догадался. Хотя, куда ему… Он-то, знаю, пряники припрёт, — и, рассмеявшись, круто остановился у крылечка медпункта.
— Всё, я полетел в гараж, — Стёпка круто развернулся и размашисто двинулся в сторону колхозного гаража. А Света, почерпнув из бочки у калиточки стариков воды в поллитровую банку, бережно внесла в медпункт букетик голубых полевых незабудок.
После встречи со Степаном день показался радостным и светлым. И вдруг прямо под окном она услышала голос Семёна невидимому спутнику:
— Потерпи чуток, сейчас фельдшерице всё и расскажешь. Вот чего скажи на милость, вы там наелись? — Света даже вздрогнула, сразу вспомнив обморочного Семёна и крикливую его жёнушку.
— Да ничего. Как всегда, чай попили на работе, — послышался и знакомый резкий голос его супруги. — Килька какая-то в консерве. Хлеб. Всё.
— Вот! Отравились поди концервой-то! Говорил тебе, из дома бери еду!
— Да не хочу я из дома. Консерву чо-то захотела вот и купила по пути.
— Вот-вот. Тошнишься теперь всё утро со своей килькой. Глядеть страшно. Вся белая уже! Плохо вот, что накричала ты тогда на докторшу-то. Стыдно.
— Да ничего стыдно. Подумаешь, прикрикнула раз. Я извинюсь. А ты сиди уже здесь! Пошли скорей, плохо мне опять.
Дверь медпункта распахнулась и Лизавета вошла в приёмную. Света, ожидавшая гром, молнии и огонь с мокрыми завитками на лбу, обнаружила перед собой жалкое измученное подобие прошлой Лизы, Бледная, притихшая, она посмотрела на Свету, готовая уже расплакаться.
— Проходите, сейчас разберёмся, — спокойно сказала фельдшер и усадила Лизавету напротив себя.
В ожидании супруги Семён нервно вскакивал со скамеечки пару раз и даже закурил. Обследование затягивалось. Через плотно закрытую дверь ничего не было слышно. А войти туда после своего позорного обморока было как-то стыдно.
— Как бы там опять не начала скандалить, — успел подумать Семён, потянувшись в карман за второй сигаретой. Дверь распахнулась. От неожиданности он вскочил. К его удивлению, вышедшие фельдшер и Лизавета таинственно улыбались.
— Семён, а сколько лет вы женаты? — вдруг ни к селу, ни к городу спросила медичка.
Семён, перепуганный с утра состоянием жены, призадумался:
— Почти десять. А что? Это килька?
— Вынуждена вас огорчить. Это не килька.
— А что? Что ты ещё ела-то? — испугался вдруг он.
— А вы скоро отцом станете, — медичка разулыбалась так, будто именно она скоро станет мамой. А Лиза порывисто обняла молодую фельдшерицу и чмокнула в щеку:
— Дошли наши молитвы! Десять лет не слышал, а тут услышал! Светочка! Если будет девочка, видит Бог, твоим именем назову. Это вы нам привезли такое щастье! Ты уж прости меня, что я накричала тогда, ребятишек нет, вот и ревную его к каждому столбу.
Лиза аккуратно сошла с крылечка, и Семён взял её за руку. О Свете они, казалось, тут же забыли, чему она была даже немножко рада. Проводила парочку глазами и даже самую малость помечтала, что когда-нибудь и она вот так же обрадует кого-то новостью о маленькой «кильке»…
Так бережно Семён даже свои новенькие «Жигули» не водил. Он вёл Лизу по селу, как королеву, придерживая под локоток. Не мог налюбоваться ею, её русыми завитками, красивой полной шеей, щеками с ямочками. Казалось, уже сейчас её облик стал совсем другим, подсвеченным изнутри светом нарождающегося материнства. И улица казалась светлой и молодая черемуха под окнами…
У самого дома, где колхозным грейдером пробуровили глубокий кювет, оглянувшись в улицу — не видит ли кто, — поднял Лизавету на руки и перенес до самой калитки.
Спасибо за лайк